
Архивное фото. Антивоенный митинг в Новосибирске, февраль 2022 г. Фото: Sibnet.ru
Евгения Альбац*: 3 мая журналисты во всем мире отмечали День свободы прессы. Вообще начало мая — это отмечание всяких журналистских дат. Мы в этот день обычно вспоминаем и своих героев, и своих убитых. Нам есть кого вспомнить. Дмитрий Холодов из «Московского комсомольца», Михаил Бекетов, Юрий Щекочихин, Анна Политковская. Это малый-малый список из тех убитых и покалеченных, кого можно было бы здесь перечислить. Никита Цицаги, корреспондент подцензурного «Ньюс.ру», убит в июне 2024 года в Донецкой области, дроном ударили по машине. Он писал репортажи со стороны агрессора. Писал хорошо в меру допустимых правил, установленных режимом. Военный корреспондент «Коммерсанта» Александр Черных написал большой текст о жизни приграничной деревни в Курской области, когда туда вошли части ВСУ и когда больше чем полгода эти люди были брошены всеми. Жюри премии «Редколлегия» отметило этот текст, но Черных отказался от премии. И текст, и премия, и отказ от нее — это тот страшный замес, в котором оказались и те, кто остался в России и пишет со стороны агрессора, и те, кто выбрал другие темы, например, убийство и похороны Алексея Навального**, как Антонина Фаворская, которая получила за это пять лет лагерей, и те, кто предпочел покинуть Россию, чтобы не писать под контролем или под угрозой тюрьмы.
Вопрос к вам, коллеги: журналистика под контролем в условиях цензуры — это журналистика?
Елена Костюченко: Да, это журналистика. Потому что она пытается выполнять и часто выполняет свою главную цель — донести до людей то, что происходит, несмотря на цензуру, несмотря на ограничения, несмотря на эзопов язык, к которому все больше прибегают российские СМИ. Это очень болезненная, но очень важная часть журналистики. Это не пропаганда.
Илья Барабанов: Это, конечно, журналистика. Оставшиеся в России сталкиваются с законами, которые там напринимали, пытаются лавировать и рассказывать правдивую историю, при этом не оказавшись в СИЗО. Кконечно, там не только Z‑журналистика осталась. Остались и нормальные люди, которые пытаются рассказать об ужасах этой войны. Окей, эзоповым языком, не упоминая слова «война». Но они пытаются продолжать работать и честно делать свое дело.
Евгения Альбац: Маша Слоним, вы в 70‑х годах были активистом диссидентского движения. В частности, распространяли подпольную «Хронику текущих событий», вынуждены были уехать из страны, а потом вернулись в конце 80‑х, когда в России была уже перестройка и гласность. Интересно ваше мнение, Маша.
Мария Слоним: Мы знаем журналистов, которые остались в России, которые пишут, несмотря на риски, и очень часто за это садятся. Конечно же, это журналистика. Я помню, Женя, что вы очень-очень не хотели уезжать, потому что тоже считали, что место российского журналиста в России. Некоторые остались, по разным причинам, но работают в предложенных обстоятельствах честно, с максимальной отдачей.
На стороне людей
Евгения Альбац: Я уехала из России в конце августа 2022 года. И тогда, и сейчас я считала, что когда журналисты побежали в феврале и в марте, это было неправильно, потому что тогда еще можно было протестовать, еще можно было писать. К сожалению, 5 марта 2022 года были приняты законы, которые делали нормальную журналистику практически невозможной. К концу августа 2022 года, после того как посадили Илью Яшина за его ролики на YouTube, стало совершенно понятно, что дальше арест и тюрьма. Тем не менее я считаю, что журналистики издалека не бывает.
Оценки работы Александра Черныха на войне между Россией и Украиной, работы со стороны агрессора в Мариуполе и вот теперь в Курской области — разнятся полярно. Одни утверждают, что Черных пропагандист, который облагораживает эту войну, развязанную Россией, другие благодарят его за то, что он рассказывает о жизни простых людей в условиях войны. В частности, за репортаж из Курской области. Что вы скажете об этом тексте?
Елена Костюченко: Это великий текст, очень нужный, очень важный. Я не считаю, что Саша работает на стороне агрессора, Саша работает на стороне людей. Анна Политковская говорила, что на войне на самом деле всегда не две стороны, а три. Есть две сражающиеся армии и есть мирные люди, которые пытаются выжить.
Евгения Альбац: Анна Политковская не написала ни одного материала со стороны российских войск.
Елена Костюченко: Это не так, Анна Политковская много писала про солдат и расследовала их смерти, расследовала бардак в командовании. Это тоже была часть ее работы.
 Илья Барабанов: С Сашей Черных мы вместе учились в университете, я знаю его миллион лет. Мы понимаем, в каких условиях он вынужден работать и в какие ограничения и рамки загнаны все журналисты России. Но я согласен с Леной, что действительно он в первую очередь описывает не боевые действия, не действия российской армии или ВСУ. Он пытается писать про людей. Когда-то это получается менее удачно, как в случае с Мариуполем, на мой взгляд. Где-то это получается очень хорошо, как в случае с Курской областью, это действительно блестящий текст, и он абсолютно заслуженно получил за него «Редколлегию».
Илья Барабанов: С Сашей Черных мы вместе учились в университете, я знаю его миллион лет. Мы понимаем, в каких условиях он вынужден работать и в какие ограничения и рамки загнаны все журналисты России. Но я согласен с Леной, что действительно он в первую очередь описывает не боевые действия, не действия российской армии или ВСУ. Он пытается писать про людей. Когда-то это получается менее удачно, как в случае с Мариуполем, на мой взгляд. Где-то это получается очень хорошо, как в случае с Курской областью, это действительно блестящий текст, и он абсолютно заслуженно получил за него «Редколлегию».
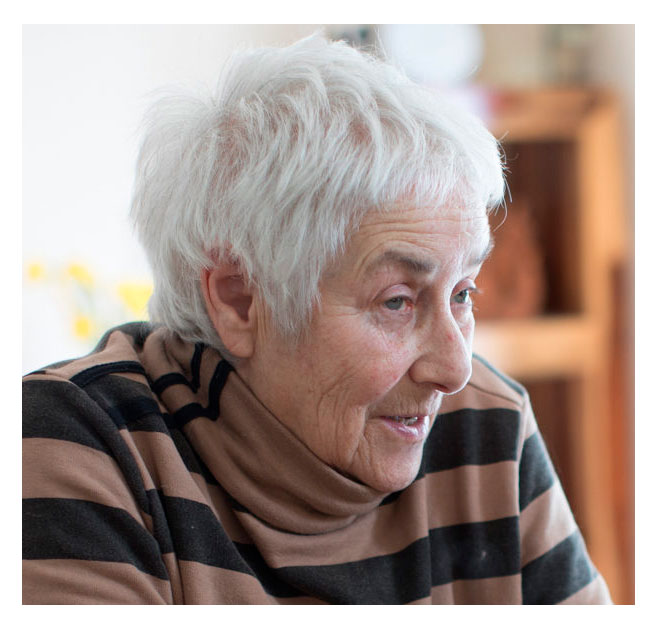 Мария Слоним: Это очерк о людях — то, чем, по-моему, журналист и должен заниматься, освещая такую страшную вещь, как война. Да, вот эта избитая цитата, ее приписывают Эсхилу, а в 17‑м году ее повторил американский сенатор, что «первая жертва войны — это правда». Я не военный журналист, но я могу себе представить, как это трудно, когда ты гражданин своей страны и ты находишься в ситуации, когда должен попытаться нейтрально описать то, что ты видишь. И мне кажется, Александру это замечательно удается. Я выписала даже цитату, как кто-то из его героев говорит: украинцы стреляют по нашим, наши по украинцам, а мы в середине. Журналист тоже в середине. И я, например, его глазами увидела то, что происходит в этой деревне. Это отчаяние, это надежда. Украинцы не звери, и удивительно, что ему удалось это протащить: украинцы и подкармливают, и не хватают всё подряд. Окей, условия войны — они жуткие совершенно. И он пишет о том, как людей бросили, родная власть бросила. Он цитирует одну из героинь, которая говорит, что если бы кто-то мне рассказал, что такое может быть, потому что я видела войну только по телевизору, я бы не поверила. А сейчас я думаю, а ведь тем, кто на другой стороне, им точно так же, как нам, понимаешь?
Мария Слоним: Это очерк о людях — то, чем, по-моему, журналист и должен заниматься, освещая такую страшную вещь, как война. Да, вот эта избитая цитата, ее приписывают Эсхилу, а в 17‑м году ее повторил американский сенатор, что «первая жертва войны — это правда». Я не военный журналист, но я могу себе представить, как это трудно, когда ты гражданин своей страны и ты находишься в ситуации, когда должен попытаться нейтрально описать то, что ты видишь. И мне кажется, Александру это замечательно удается. Я выписала даже цитату, как кто-то из его героев говорит: украинцы стреляют по нашим, наши по украинцам, а мы в середине. Журналист тоже в середине. И я, например, его глазами увидела то, что происходит в этой деревне. Это отчаяние, это надежда. Украинцы не звери, и удивительно, что ему удалось это протащить: украинцы и подкармливают, и не хватают всё подряд. Окей, условия войны — они жуткие совершенно. И он пишет о том, как людей бросили, родная власть бросила. Он цитирует одну из героинь, которая говорит, что если бы кто-то мне рассказал, что такое может быть, потому что я видела войну только по телевизору, я бы не поверила. А сейчас я думаю, а ведь тем, кто на другой стороне, им точно так же, как нам, понимаешь?
И это читают в России. Это гораздо важнее, чем то, что пишут журналисты, живущие в эмиграции. Потому что, во‑первых, не все читают этих журналистов в России. А все-таки у «Коммерсанта», я думаю, и у Черныха есть определеная аудитория, которая от него узнает очень многое из того, что происходит. Не говоря о том, что он произносит слово «война», его герои произносят слово «война». Текст очень человеческий. И неважно, с какой стороны журналист писал его. Он писал честно.
Пропагандисты работают прежде всего на государство и отстаивают его информационные интересы. Журналисты — это люди, которые отстаивают интересы читателей
Евгения Альбац: Давайте я поработаю адвокатом дьявола. В этом тексте есть как минимум два параграфа, которые меня неприятно поразили. Один, в последней части, где рассказывается о том, как украинские солдаты вроде бы расстреляли жителей где-то на другой окраине этой деревни. Такое ощущение, что это вставной кусок. И второе, что совсем не вставное, но то, что меня просто поразило. Вот вы, Маша, говорите о том, что украинцы привозили в оккупированные села еду, помогали там воду доставать, о чем пишет Черных. А потом, когда российские войска отвоевывают эту деревню, то одна из жительниц, одна из тех, кто получал в том числе помощь от украинцев, наводит на какой-то дом в деревне, где прятались украинские военные, ну и, соответственно, туда пошли, забросали гранатами, всех убили. Понимаете, в чем дело? Мне трудно не сравнивать эту войну с войной 1941–1945 годов, потому что мои родители оба воевали на той войне. Папа, в частности, воевал в том самом Николаеве, откуда Лена Костюченко вела свои репортажи про то, как российская армия бомбила город. Я представляю себе, какие репортажи должны были писать со стороны немецких войск их журналисты-пропагандисты. Наверное, они тоже что-то такое писали?
Елена Костюченко: Давайте сразу, может быть, отделим журналистов от пропагандистов. Я понимаю, что они тоже себя любят называть журналистами, но мы-то понимаем разницу. Пропагандисты работают прежде всего на государство и отстаивают его информационные интересы. Журналисты — это люди, которые отстаивают интересы читателей. Интерес читателей, как правило, узнать правду. И эта правда может быть любой, в том числе такой, о которой пишет Саша. Мне не показался кусок с расстрелом жителей вставным, он мне показался совершенно имманентным тексту. Да, это могло случиться. Это война.
Евгения Альбац: Он этого не видел своими глазами.
 Елена Костюченко: В тексте довольно точно описаны звуки, которые слышал человек, он был таким вот слышащим свидетелем расстрела. Касательно конфет, которые приносили украинцы в дома, тоже все подробно описано. В том числе там описано, когда как будто бы украинский солдат кидает в подвал гранату. И слава богу, что все остаются живы. Я не сомневаюсь в том, что это могло случиться, потому что я была на войне, и я понимаю, что на войне крыша едет у всех, военные преступления совершаются со всех сторон. И это зафиксировано в отчетах международных организаций, это не то, что там правда Черныха, которую я должна отстаивать.
Елена Костюченко: В тексте довольно точно описаны звуки, которые слышал человек, он был таким вот слышащим свидетелем расстрела. Касательно конфет, которые приносили украинцы в дома, тоже все подробно описано. В том числе там описано, когда как будто бы украинский солдат кидает в подвал гранату. И слава богу, что все остаются живы. Я не сомневаюсь в том, что это могло случиться, потому что я была на войне, и я понимаю, что на войне крыша едет у всех, военные преступления совершаются со всех сторон. И это зафиксировано в отчетах международных организаций, это не то, что там правда Черныха, которую я должна отстаивать.
Но для меня самое важное в тексте был отказ героев от ненависти. Люди, которые выживают в войне, которые проходят через непредставимое, которые хоронят своих соседей, своих близких в огородах, которые не знают, чей дрон летит и чей «Град» летит и приземляется в их дом... И в конце эти женщины говорят: «То, что мы пережили, мы не пожелаем врагу». Для них это очень конкретная фраза. Это не расхожее выражение «врагу не пожелаешь». Это говорят люди, которые прожили это и отказались от ненависти. Маша уже цитировала, но я хочу повторить. Одна из женщин говорит, что когда война была по телевизору, она не понимала, что это такое. «Но когда война пришла к нам, я поняла, что с той стороны точно такая же деревня, где живут точно такие же люди, которые точно так же умирают». Мне кажется, это очень важная правда, и я рада, что она дошла до российских читателей.
Саша как журналист, я считаю, сделал все возможное для того, чтобы мы хотя бы немножко могли почувствовать, через что прошли эти люди и что такое война на самом деле. Война — это не то, что говорят по телевизору. Война — это когда ты хоронишь своего мужа в огороде и думаешь, как тебе вывозить свою дочь.
Мария Слоним: Лена права, там нету ненависти, наоборот, это сопереживание в каком-то смысле. Они начинают понимать, что такое война для другой страны. И как они относятся к войне. Она разрушила их жизнь. И совершенно не обязательно автору было говорить: «а вот это проклятая война, которую затеял Путин». Там все очевидно.
Столкновение с цензурой
Евгения Альбац: Сейчас у меня вопрос Илье и Лене. Вы работали на первой украинской войне на Донбассе, когда российские власти утверждали, что на востоке Украины воюют русскоязычные сторонники объединения с Россией, но регулярных российских частей там нет. Нам рассказывали о том, что туда едут военные отпускники, а то, что там псковские десантники воюют, это нам было знать, конечно же, не положено. Илья, вы тогда были военкором «Коммерсанта», а вы, Лена, работали в «Новой газете». И вы, так же как корреспонденты New Times, искали свидетельства, что российская армия, то есть армия вашей страны, является активным участником этого конфликта. Какие были у вас ограничения? Какую цензуру вы считали для себя приемлемой тогда, а какую нет?
Елена Костюченко: Я тогда не сталкивалась с цензурой, в «Новой газете» можно было писать совершенно всё. Еще не было законов, которые сейчас ограничивают журналистов, оставшихся в России. Я получала аккредитацию ДНР, чтобы въехать на Донбасс, за что меня украинцы внесли в список «Миротворец». Правда, потом исключили, видимо, по совокупности заслуг. Но сейчас, может быть, после нашего разговора опять внесут. Я получала аккредитацию ДНР так: пришла в горсовет, у меня взяли фотографию, вклеили ее в ламинированное удостоверение, и все. После того как я проинтервьюировала Доржи Батомункуева, этого сгоревшего танкиста, аккредитацию мою ДНР отозвал. Это была вся бюрократия, с которой я столкнулась.
Из наших репортажей 2014–2015 годов власть сделала выводы о том, как она будет вести себя в будущем. Поэтому когда в 2022‑м началось вторжение, так оперативно были подготовлены и вброшены законы о «фейках», о «дискредитации». Потому что надо все максимально запретить и завинтить
Илья Барабанов: Все-таки характер войны тогда был принципиально иным, чем сейчас. Представить себе, что сейчас какой-нибудь журналист работает по обе стороны линии фронта, довольно тяжело, а тогда из-за непонятного характера всего происходящего, из-за этой гибридности все-таки было несколько российских СМИ, которых пускали в Киев, и мы могли себе позволить половину командировки провести с военнослужащими ВСУ, потом переехать линию фронта и провести половину командировки в самопровозглашенной ДНР, писать и оттуда и оттуда, что сейчас, конечно, просто невозможно себе представить. Тогда времена были сильно свободнее. Я думаю, что как раз из тех наших репортажей 2014–2015 годов власть и сделала выводы о том, как она будет вести себя в будущем. Поэтому когда в 2022‑м началось вторжение, так оперативно были подготовлены и вброшены все эти законы о «фейках», о «дискредитации» и обо всем остальном. Потому что надо все максимально закрутить, запретить и завинтить.
Я не могу сказать, что в издательском доме «Коммерсант» было так вольно, как в «Новой газете». Конечно, там просили быть аккуратными в оценках. Но удивительно сейчас вспоминать, как в сентябре 2014 года я выходил в эфир, прости господи, к Андрею Норкину, который тогда был не на НТВ, а на «Коммерсант-ФМ», и был еще относительно адекватный человек. Рассказывал ему в прямом эфире, что на Новоазовск со стороны Ростова-на-Дону наступают русские танки, а он мне говорил, что «может быть, все-таки это шахтеры». Я говорю: ну вы понимаете, там дорога одна, она ведет на Ростов, танки едут оттуда, и шахтерам там точно делать нечего. Поэтому я боюсь, что все-таки вижу сейчас в поле русские танки. Представить себе в 2025 году, что мы в прямом эфире что-то обсуждаем с господином Норкиным, мягко говоря, невозможно. Поэтому было трудно, но было возможно работать, было возможно все это публиковать. У меня тоже у одного из первых выходил текст про бурятов в «пампасах Донбасса», после Дебальцева мы про это тоже писали. Сколько там нас еще было? Тимур Олевский из «Дождя», «Новая газета», буквально 3–4 СМИ, которых продолжали пускать в Киев, давали аккредитации и позволяли ездить с той стороны. В то время когда после Крыма уже большинству российских пропагандистов обрубили возможность работать со стороны ВСУ, наши тексты читали, видели, что мы не врем, что мы не искажаем действительность, не занимаемся пропагандой, и нам давали возможность работать. Сейчас это уже, конечно, невозможно.
Евгения Альбац: Илья, я правильно помню, что когда вы действительно одним из первых добыли свидетельство того, что на Донбассе воюет регулярная российская армия, вы в «Коммерсанте» далеко не все смогли опубликовать, например, не смогли указать номер части, хотя вы потратили кучу времени, чтобы именно показать, что такая-то конкретная часть там-то стояла. Вас уже тогда в «Коммерсанте» резали?
Илья Барабанов: Скорее вопрос был с юристами. Сейчас мы уехали и позволяем себе игнорировать российское законодательство. А тогда в какой-то момент был принят указ про запрет писать о потерях в мирное время или что-то еще. Тогда приходилось с юристами пробивать буквально каждую строчку, потому что что-то тогда резали, исходя из соображений исполнения законодательства.
Евгения Альбац: То есть это был не главный редактор «Коммерсанта», а юрист?
Илья Барабанов: Главный редактор «Коммерсанта», надо отдать должное, вообще в мои тексты не лез. Я работал с Глебом Черкасовым, моим начальником, и все выходило обычно в том виде, в котором я это Глебу присылал.
Мария Слоним: То, что Илья рассказывает, напоминает мне разницу между первой и второй чеченской войной. В первую чеченскую журналисты могли работать и там и там, и в общем-то освещали вполне свободно то, что происходит. А уже ко второй чеченской власти поняли, что им невыгодно, чтобы журналисты вот так свободно работали с обеих сторон. И я просто помню, что мы — я работала и с BBC, и с Channel 4 — ни разу не получили аккредитацию на вторую чеченскую. А в первой нас военные даже подбрасывали на вертолете куда-то из Моздока в Грозный, и прочее. Потом поняли, что журналисты не нужны. Они мешают.
Евгения Альбац: Тогда уже был страх не только попасть под российские войска, как было в первую войну, когда самое страшное было залететь на российский пост, и было непонятно, выйдешь ты оттуда или не выйдешь, и как выйдешь... Страх был уже значительно больше перед чеченцами, после того, как в зинданах побывали наши коллеги Елена Масюк и другие. И после того, как мы увидели, что с людьми там делали и как с ними поступали. Во вторую чеченскую войну мы уже столкнулись с совершенно ненавидящими нас чеченцами.
Вести оттуда
Евгения Альбац: Ни один из вас не отреагировал на мой вполне провокационный вопрос о сравнении с тем, что наверное репортажи со стороны немецких войск, которые шли по советской земле и убивали всех подряд, тоже были о том, как тяжело немецким войскам. А это был агрессор. И это именно фашистские войска напали на Советский Союз 22 июня 1941 года. Вы категорически отказываетесь от аналогий?
Елена Костюченко: Мне кажется, любая аналогия не точна, но здесь конкретно даже по каким-то базовым пунктам не сходится. Николаево‑Дарьино, село в Курской области, откуда Саша писал репортаж, это территория России, которая в ответ на российскую агрессию была оккупирована украинской армией, а потом деоккупирована обратно российской армией. Если искать аналогию, то скорее это должен быть 1945 год, но в 1945 году уже совсем другая была ситуация и с фашистской прессой, и с супербыстрым отступлением фашистских войск. Поэтому я боюсь, что мы просто провалимся в этот исторический замес.
Евгения Альбац: Но Никита Цицаги писал из Донецкой области. Его убил украинский дрон, когда он ехал на машине написать о монахах, которые прятались в монастыре. При этом он писал для подцензурного издания News.ru и жаловался в дневниках на то, что его режут, его материалы переписывают, и так далее. Так что в этом смысле, окей, принимаю ваше замечание по поводу российского села и репортажа Черныха, хотя могу напомнить вам о репортаже Черныха из Мариуполя. Мы знаем, что происходило, когда брали Мариуполь.
Елена Костюченко: Мы очень мало знаем, что происходило в Мариуполе, и очень мало знаем, что происходит на территориях самопровозглашенных республик. Поэтому для меня как для читателя любая информация оттуда очень ценна. И конечно я всегда, как опытная читательница, делаю поправку на то, в каких условиях работал автор. И кто этот автор — журналист или пропагандист.
Евгения Альбац: Никита Цицаги кем был?
Елена Костюченко: Я уверена, что он был журналистом.
Евгения Альбац: Потому что его убили?
Елена Костюченко: Нет, не потому. Убить могут любого человека, неважно какой профессии. Собственно, вы объяснили, почему он был журналистом. Потому что он ехал к монахам в монастырь — поговорить с мирными людьми, которые переживают войну. И по его дневникам, на которые вы тоже сослались, он не был согласен с цензурой, он не был готов работать на государство. И опять же, подцензурное издание — это не то же, что государственное или пропагандистское издание. Я бы эти два понятия развела. Я с Никитой не была знакома лично, я уже потом поняла, что в какие-то моменты мы с ним бывали в одних и тех же местах, но мы никогда не пересекались. Но я читала его тексты, и это хорошие, важные тексты.
Что я могу сказать? Я тоже делала репортажи из самопровозглашенной ДНР. В ЛНР я не могла въехать, там другая силовая структура контролировала, и они развесили мои портреты по столбам. А в ДНР я работала, и с точки зрения многих украинцев я, наверное, заслуженно находилась в списке «Миротворца». Потом, когда началась большая война, я пересекала линию фронта и работала в оккупированном Херсоне. Я работала нелегально. Если бы меня поймали, возможно, мы бы с вами не разговаривали сейчас. Я пересекла линию фронта, я работала в городе под оккупацией. Но людям, с которыми я там встречалась, было важно до внешнего мира донести то, что происходит с ними. И мне там удалось, например, установить секретную тюрьму, в которую похищенных украинцев забирали и пытали российские спецслужбисты. Мне удалось установить ее адрес и удалось установить список 44‑х человек, которые там пропали. Мне кажется, это важная работа. И понятно, что она может кого-то задевать, такая работа, и кому-то больно от того, что ты можешь въехать куда-то, куда не может въехать человек, который, например, 20 лет там прожил, но вынужден был бежать из-под оккупации и не может вернуться. Но и этому человеку важно знать, что происходит с его домом.
Точечки и скобочки
Евгения Альбац: Лена, я помню ваши блестящие репортажи из Николаева, из Херсона, из Одессы. Но я вспоминаю также, что вы полностью свой репортаж из Херсона не могли опубликовать. Правильно я помню?
Елена Костюченко: Да, конечно. Я расскажу, как это все было. Когда 5 марта 2022 года приняли эти законы, мы обсуждали с редакцией...
Евгения Альбац: Неконституционные, замечу, законы, которые нарушают российскую Конституцию.
Елена Костюченко: Мы связывались с редакцией «Новой газеты». Мне было важно, продолжат ли они публиковать мои тексты. Потому что, как вы знаете, эти статьи — они групповые, то есть если что, садишься не только ты, но и твой редактор, твой верстальщик, то есть «группа лиц» может пойти под суд и в тюрьму. Они сказали, что будут это опубликовать. И «Новой газетой» была разработана система видимой цензуры. Я уже сейчас не помню, какие скобочки что значили, но интуитивно было понятно, что вот здесь вырезано слово, вот здесь вырезан абзац, и мы в скобочках коротко говорим, о чем был этот абзац.
Вместо слова «война» там какое-то количество точек. И параллельно, одновременно с этим, издание «Новая Польша», которое не было заблокировано в России, публиковало полный текст репортажей для тех, кто хотел их прочесть. А я, соответственно, у себя в соцсетях давала ссылки на оба текста, на подцензурный и неподцензурный.
Но оказалось, что русский язык устроен так, что если ты убираешь одно слово из предложения, ты все равно можешь понять, что это было за слово. Поэтому довольно скоро в редакцию «Новой газеты» пришло письмо от Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры с требованием репортажи из Николаева и Херсона, которые порезаны, с точечками, со скобочками — удалить. «Новая газета» их удалила, и начался эффект Барбары Стрейзанд, потому что все остальные, неподцензурные СМИ начали эти репортажи перепечатывать, причем уже не со скобочками и точечками, а версию, которая изначально была опубликована на «Новой Польше». То есть я не думаю, что конкретно в моем случае эти законы выполнили свою цель. Не выполнили. Но крови попортили много.
За Путина ответим
Евгения Альбац: Когда я уехала из Москвы и приехала в Соединенные Штаты, на меня все время обрушивались на всяких конференциях, на дискуссиях украинцы, которые меня обвиняли за все, что сделал, делает и будет делать Путин. И я вдруг поняла — хотя мне было это очень больно, потому что никогда в жизни я не голосовала за него и боролась с ним всю жизнь — а чего, собственно, я обижаюсь? Я вроде того немецкого журналиста, который мог оказаться в Лондоне в 43‑м году, когда Luftwaffe бесконечно бомбила Лондон и всё время гибли люди. Ну и как бы ко мне англичане тогда относились? Ну так, как ко мне относятся украинцы в эту войну. Для меня аналогия ровно такая.
Независимые журналисты, которые в итоге теперь сидят в изгнании, вряд ли смогут вернуться домой. Потеряли все там, да еще виноваты во всем здесь. Но что делать? Времена не выбирают
Илья Барабанов: Я подозреваю, что все эти исторические аналогиии в корне неверны, потому что ни в тоталитарном Советском Союзе, ни в Третьем рейхе никаких независимых журналистов в помине не существовало. А в России в 2022 году, несмотря на более чем 20 лет правления Владимира Путина и закручивание всех возможных гаек, все-таки и мы оставались, и другие независимые издания не были заблокированы. Да, нас все эти 20 лет третировали и гнобили, но независимая журналистика в России существовала. Военные эксперты, с которыми я сейчас общаюсь по работе, сравнивают то, что происходит сейчас, скорее с другим масштабным региональным конфликтом, когда все 80‑е годы воевали Иран с Ираком и 8 лет убивали друг друга. Тоже десятки тысяч людей погибли, в итоге разошлись по старым границам. Но я сомневаюсь, что в Иране или Ираке были какие-то независимые журналисты, которые рефлексировали на тему того, что они граждане страны-агрессора. В этом смысле мы оказались, наверное, в уникальной роли, потому что независимые журналисты, которые в итоге теперь сидят в изгнании, вряд ли смогут вернуться домой. Потеряли всё там, да еще виноваты во всем здесь. Но что делать? Времена же не выбирают. В них живут и умирают. Мы оказались в изгнании и должны пытаться честно выполнять свою работу в изгнании, насколько это возможно. И понимать, что те наши коллеги, которые остаются там, вынуждены, пытаясь рассказывать нам какие-то истории, следовать неконституционным законам. Мы отрицаем эти законы, мы не принимаем их, мы с ними не согласны, поэтому, собственно, в итоге мы не в России, поэтому у нас с вами плашка «иностранных агентов», а потом будут уголовные дела и розыск. А те люди, которые остаются в России и хотят там работать, вынуждены действовать ниже радаров, соблюдать эти цензурные ограничения, быть аккуратнее со словом «война», но пытаться при этом рассказывать о том, каким ужасом является эта война. А хотите пропаганды, почитайте про «гостомельских богатырей» в исполнении Александра Коца в «Комсомольской правде». Ну или военкора Сладкова, много кого еще.
Елена Костюченко: Марину Ахмедову. Да-да-да. Которая была очень хорошим репортером в свое время.
Илья Барабанов: И что мы теперь видим на месте Марины Ахмедовой... Я думаю, что эта война очень большое испытание и для уехавших, и для тех, кто остается. И я думаю, что там остается огромное количество наших коллег, которые честные ребята, которые стараются профессионально выполнять свой долг и для которых все происходящее уже четвертый год является огромной личной трагедией, как и для каждого из нас.
Мария Слоним: Война проходит по всем, журналисты не исключение. Я понимаю, как трудно и тяжело таким журналистам, как Илья и Лена, оказаться вдруг в изгнании, перестать быть частью той российской журналистской среды. Но сложно, а часто и сложнее тем, кто остался и пытается, продолжает быть журналистом. Я понимаю, что есть три пути: уехать, пытаться писать, как Лена рассказывает, обходя запреты — мы умели читать между строк, — а кто-то уходит в истопники, в археологи и прочее. У каждого свой выбор. Я просто на самом деле восхищаюсь теми, кто продолжает работать и старается не изменять профессии.
Минное поле журналистики
Евгения Альбац: Совсем недавно в тюрьму отправили на пять с половиной лет журналистов Антонину Фаворскую**, Артема Кригера**, Сергея Карелина** и Константина Габова**. Их обвинили в том, что они сотрудничали с «запрещенной», «нежелательной», «террористической», «экстремистской» — добавьте все слова из лексикона российского СК — организации, а именно Фонда борьбы с коррупцией*** Алексея Навального. Антонина Фаворская, например, писала со всех тюремных судилищ над Алексеем Навальным, когда Алексей был по видеосвязи из тюрем. Писала из Харпа, где Навальный сидел в арктической колонии, где его, собственно, и убили. Писала с похорон Алексея Навального. То есть мы с вами четко понимаем, что есть разное разрешенное. Журналистика, которой занимались Фаворская, Кригер, Карелин и Габов, заканчивается годами тюрьмы. А та журналистика, которой занимается тот же самый Александр Черных и которой занимался покойный Цицаги, заканчивается премией «Редколлегии». Вы можете сформулировать, что это за правила в российской жизни, по которым одни журналисты идут в тюрьму, а другим аплодируют по обе стороны баррикад?
По большому счету вся российская журналистика и публицистика сейчас представляет собой огромное минное поле
Илья Барабанов: Вы перечислили тех ребят, которые совсем недавно получили сроки. На самом деле наших сидящих коллег там значительно больше. Помните Мишу Афанасьева из Хакасии, которого посадили еще в 22‑м? И сколько, сколько еще этих имен. Во время войны никаких правил игры не существует в принципе. Люди стараются балансировать. У кого-то это получается, у кого-то нет. Но по большому счету вся российская журналистика и публицистика сейчас представляет собой огромное минное поле. Мы ходим по этому минному полю из-за границы, получая статусы, уголовные дела и новые протоколы. Часть людей продолжает ходить по этому минному полю, оставаясь внутри России. Кто-то получает сроки, а кто-то пока петляет, но это абсолютно не гарантирует, что человеку в следующую пятницу не прилетит иноагентский статус, а потом уголовное дело. Поэтому я бы не говорил о том, что есть какие-то правила игры. В сфере нашей профессиональной деятельности есть огромная анархия, в которой государство ходит с дубиной. Тебя мы пока не заметили, ты ходишь ниже радаров, а ты высунулся чуть выше, значит ты сразу получаешь по голове.

Антонина Фаворская в зале суда, март 2024 г. Фото: Александра Астахова / Медиазона
Мария Слоним: Я согласна с Ильей. В каком-то смысле это ложное противопоставление, потому что мы не знаем, что дальше будет с Черныхом. Не знаем, потому что нет правил игры. Наверное, он более опытный журналист, который умеет не нарываться, обходить острые углы. Он старше. Фаворская — из плеяды героических журналистов, она шла по минному полю, невзирая ни на что. Это другое поколение людей.
Елена Костюченко: Почему Черных в Курской области, а Фаворская в тюрьме? Потому что Черныха пока не посадили, а Фаворскую уже посадили. Нет никаких правил. Никто не может гарантировать себе безопасность. Я вот только что разговаривала со своей коллегой, которая остается в России и делает совершенно блестящие вещи, многие из которых публикуются, а многие нет. Она завела собаку, и она говорит: ты знаешь, я вот иду с собакой гулять, возвращаюсь домой, а у подъезда мужик стоит, курит. У меня первая мысль — за мной, а вторая мысль — разрешать ли мне завести собаку в квартиру, прежде чем меня арестуют. Другая девочка, с которой я тоже недавно общалась, говорит, что сейчас, если ты работаешь в России, горизонт планирования — сутки. Ты проснулась утром, и если ты проснулась не от того, что тебе в дверь долбят менты, а по будильнику, ты думаешь — окей, вот у тебя есть день, что ты в этот день можешь успеть сделать, что ты хочешь в этот день сделать? Ты выходишь из дома и не знаешь, вернешься ли ты домой. Но если ты вернулась домой и заснула, и проснулась на следующее утро опять по будильнику, а не потому что кто-то долбит в дверь, у тебя есть еще одни сутки. И вот так люди живут и работают. Я бы не стала обесценивать их усилия, потому что они еще не сидят. Многие из них сядут, многие из них погибнут. Это очень страшно, потому что это всё нам близкие, родные, живые люди.
Евгения Альбац: Я хочу вас, Лена, и вас, Илья, и Машу спросить вот о чем. Вот мы все четверо предпочли уехать. Лена уехала после того, как делала свои репортажи из Николаева и из оккупированного тогда Херсона. Илья, вас война настигла, как я хорошо помню, в Киеве, вы там передавали репортажи для BBC, и когда российские войска подходили к Киеву, вам пришлось не без труда оттуда выбираться. И вы тоже уехали не в Россию, а в эмиграцию. И я уехала, и Маша уехала еще раньше. Вопрос, который я себе бесконечно задаю: вы сейчас, в мае 2025 года, считаете, что вы правильно сделали, что уехали? Или все-таки надо было оставаться и пытаться как-то работать в России?
Мария Слоним: Я‑то точно не могла работать. Уже просто не для кого было. Мне было понятно, что моя журналистская карьера окончена.
Евгения Альбац: Тем не менее Стив Розенберг из BBC продолжает работать в России.
Мария Слоним: Героически, конечно, да. Один из очень немногих иностранных журналистов.
Евгения Альбац: Да, и задает вопросы Путину, которые никто не может задать на пресс-конференции. И делает блистательное интервью с Лукашенко.
Мария Слоним: Да, но не факт, что его завтра не выдворят.
Евгения Альбац: Ну, выдворить — это не худший вариант. Есть вариант Эвана Гершковича.
Илья Барабанов: Наша жизнь — это череда совпадений разного рода и случайностей, поэтому вы верно сказали, что у меня не было никогда в планах никуда уезжать, я не планировал никакую эмиграцию, я уезжал 4 февраля из Москвы в командировку в Киев, думая, что это на пару-тройку недель, не больше, и я вернусь в Москву в свою квартиру. Но дальше особого выбора не было. Это был четвертый или пятый день, когда пришли, скажем так, осведомленные люди и предупредили, что все русские журналисты, кто встретил войну на территории Украины, по возвращении в Москву могут получить обвинение в госизмене. Тогда это 20 лет было, а сейчас, по-моему, вообще пожизненное. И стало понятно, что нет варианта возвращаться. Нас там было не так много в Киеве, русских журналистов, никто в итоге не вернулся. Это не наш был выбор, нас поставили перед фактом. Если бы 24 февраля 2022 года я был в Москве, может быть, я принял бы другое решение, попытался бы по максимуму продержаться. Но просто ситуация сложилась так, как сложилась, было не до свободного выбора. Альтернативы не было.
Елена Костюченко: Я тоже не уезжала из страны, я поехала в командировку в Украину. Я была уверена, что это командировка на неделю. Не потому, что русские возьмут Киев за три дня, а потому, что русские откажутся стрелять по украинцам. Я была совершенно в этом уверена. Но оказалось, что я гораздо хуже знаю жизнь, чем думала. Жалею ли я, что не вернулась из Украины в Россию? Честно говоря, да, я жалею. Меня попросил <главный редактор «Новой газеты» Дмитрий> Муратов не возвращаться какое-то время. Нам тогда казалось, что это какое-то обозримое время, которое можно пересидеть и вернуться. Сейчас, когда стало понятно, что это надолго, я бы хотела быть внутри. Я не уверена, что у меня бы хватило мужества, умения, способностей работать долго, скорее всего я бы довольно быстро села, и неизвестно, как бы я пережила тюрьму. Но этими мыслями только сердце себе терзаешь и ничего не меняешь в реальности на самом деле. Я очень хочу домой. Я не вижу для себя как для журналиста ничего интереснее, чем то, что происходит сейчас в России.
Евгения Альбац: Да, я с вами соглашусь, Лена. Потому что никакой журналистики в изгнании на самом деле не бывает.
Елена Костюченко: Я думаю, что бывает, но она тоже имеет свои ограничения. Они другие природно, сущностно другие. Не те, с которыми сталкиваются наши коллеги в России. Мы живем в другом мире, и журналистика меняется. Я тоже на днях разговаривала с одним пожилым человеком, который всю жизнь проработал журналистом в Америке. Я к нему пришла в расстроенных чувствах, все ужасно, и стала спрашивать, как он видит будущее журналистики. А он говорит — офигенное будет будущее, офигенное! Потому что у нас сейчас есть инструменты, о которых мы не только не мечтали, мы даже представить их себе не могли. То, что сейчас, например, делают исследователи OSINT, Open Source Intelligence, анализ данных из открытых источников, позволяет расследовать преступления, которые иначе оставались бы не расследованными. То, что делает Insider****, то, что делает «Медуза»****, что делает «Новая вкладка», что делает «Гласная». Это очень крутая работа. Это очень крутая работа. Но то, что делает «Новая газета» в Москве, это тоже очень крутая работа. И я очень рада, что «Новая газета» есть в Москве. Москва была бы другой без «Новой газеты».
Видеоверсия:
* Евгения Альбац, Илья Барабанов в РФ объявлены «иностранными агентами».
** Алексей Навальный, Антонина Фаворская, Артем Кригер, Сергей Карелин, Константин Габов внесены в список «террористов и экстремистов».
*** ФБК признан «экстремистской организацией» и запрещен в РФ.
**** Insider, «Медуза» в РФ объявлены «иноагентами» и «нежелательными» организациями.